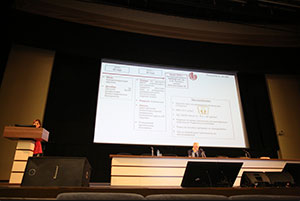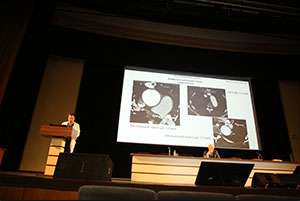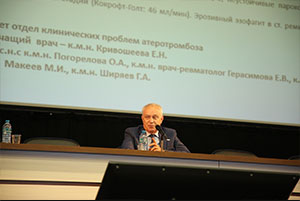Федеральное государственное бюджетное учреждение НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.И. ЧАЗОВА Министерства здравоохранения
Клинический разбор ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России 17 сентября 2025 года
17 сентября 2025 года в ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России состоялся клинический разбор, представивший клинический случай пациентки О., 64 лет.
Основной диагноз:
Васкулит крупных сосудов (Аортоартериит Такаясу? Гигантоклеточный артериит?). Вторичный антифосфолипидный синдром? Гемодинамически значимое поражение устья чревного ствола (субтотальный стеноз устья чревного ствола), правой подключичной артерии и правой подмышечной артерии. Гемодинамически незначимое поражение обеих почечных артерий, брахиоцефального ствола, левой подключичной артерии, правой и левой общих сонных артерий, правой и левой внутренних сонных артерий.
Аневризмы восходящего отдела аорты (46х45 мм) и торакоабдоминального отдела (42х36 мм).
Трёхкратное протезирование аортального клапана в сентябре 2016 г.; в марте 2020 г. и в сентябре 2021года. В сентябре 2021 года девитализированным криосохраненным аортальным аллографтом с реимплантацией устьев коронарных артерий.
Протезирование митрального клапана механическим протезом Карбоникс №28 в сентябре 2021 года.
Протезирование трикуспидального клапана протезом Биолаб №31 в сентябре 2021г. Транскатетерная имплантация биологического баллон-расширяемого протеза Myval 29 mm в трикуспидальную позицию по методике "клапан-в-клапан" от 04.07.2025 г.
Осложнения основного заболевания: Последствия ишемического инсульта в бассейне правой средней мозговой артерии в 2016 году.
Хроническая сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса 1 стадии, II функциональный класс.
Нарушения ритма и проводимости сердца: АВ блокада 1 ст., эпизоды АВ блокады 2 ст. Мобитц 1, неустойчивые пароксизмы наджелудочковой тахикардии.
Докладчик:
Отдел клинических проблем атеротромбоза
Лечащий врач – к.м.н. Елена Николаевна Кривошеева.
Содокладчики: проф., д.м.н. Имаев Т.Э., с.н.с, к.м.н. Погорелова О.А., к.м.н., врач- ревматолог Герасимова Е.В., к.м.н. Макеев М.И., к.м.н. Ширяев Г.А.
Клинический разбор был проведен при участии сотрудников, ординаторов и аспирантов НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России.
Вопросы для обсуждения:
- Генез основного заболевания, приведшего к многократным операциям?
- Необходимо ли вмешательство на субтотально суженном чревном стволе?
- Что делать с аневризмой аорты?
В дискуссии приняли участие:
Бойцов Сергей Анатольевич, академик РАН, д.м.н., проф.,
Кухарчук Валерий Владимирович, член-корр. РАН, д.м.н., проф.,
Карпов Юрий Александрович, д.м.н., проф.,
Саидова Марина Абдулатиповна, д.м.н., проф.,
Балахонова Татьяна Валентиновна, д.м.н., проф.,
Панченко Елизавета Павловна, д.м.н., проф.,
Ежов Марат Владиславович, д.м.н., проф.,
Чихладзе Новелла Михайловна, д.м.н., проф.,
Фомичева Ольга Аркадьевна, д.м.н.,
Власова Элина Евгеньевна, к.м.н.,
Герасимова Елена Владимировна, к.м.н.,
Курилина Элла Владимировна, врач-патологоанатом.
Генеральный директор ФГБУ “НМИЦ Кардиологии” Минздрава России, академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Вы поставили вопросы для обсуждения, а диагноз какой?
К.м.н. Кривошеева Елена Николаевна. Теперь мы склоняемся к аортоартерииту Такаясу и вторичному антифосфолипидному синдрому, для подтверждения которого необходимо повторное обследование через 12 недель после первого.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Почему вы не убрали знаки вопросов в диагнозе?
Ответ к.м.н. Кривошеевой Елены Николаевны. Поскольку пациентка продолжает обследование у ревматолога.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Пациентка находится у нас в кардиоцентре сейчас?
Ответ к.м.н. Кривошеевой Елены Николаевны. Да.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Тогда имеет право на существование знак вопроса. Коллеги, к Елене Николаевне есть какие-то вопросы? Марат Владиславович.
Вопрос д.м.н., проф. Ежова Марата Владиславовича. Вы констатировали отсутствие пульса на лучевых артериях, а Ольга Александровна показала, что кровоток удовлетворительный. Поэтому вопрос: пульс есть или нет?
Ответ к.м.н. Кривошеевой Елены Николаевны. Да, Марат Владиславович, пульс я проверила повторно. Я не могу определить пульс на лучевых артериях. Более того, пациентке дважды выполняли коронарографию (в 2020 году в Сургуте, в 2021 году в Бакулевском центре). Оба раза не получилось выполнить лучевым доступом. Исследование проводилось бедренным доступом.
Вопрос д.м.н., проф. Ежова Марата Владиславовича. Понятно, что диаметр узкий для ангиографии, но по логике пульс должен быть. Коронарные артерии абсолютно интактные?
Ответ к.м.н. Кривошеевой Елены Николаевны. Марат Владиславович, по данным коронарографии в 2020–2021 гг. — интактные. Насколько мы можем судить, при выполнении МСКТ-аортографии, хотя это не было нашей основной целью, значимого поражения также нет. Но, учитывая большие сложности с какими-либо инвазивными исследованиями у пациентки, а также сниженную функцию почек, дополнительно мы на данный момент исследование не повторяли.
Д.м.н., проф. Ежов Марат Владиславович. И не нужно.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Может, там аномальные расположения? Ольга Александровна, вы нашли артерии или нет?
Ответ к.м.н. Погореловой Ольги Александровны. По поводу лучевых артерий. Диаметр правой лучевой артерии — 1,8 мм, но так как там большой стеноз в подключичной и в подмышечной артериях и магистрально изменённый сниженный кровоток, вполне возможно, что врач мог не оценить пульс. Левая лучевая артерия, где нормальный магистральный кровоток, там диаметр — 1,1-1,2 мм. Пациентка небольшая, худенькая, у неё маленькие диаметры, и даже с магистральным кровотоком, возможно, рукой это не оценивается.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Артерии есть, и они определяются. Пожалуйста, Валерий Владимирович.
Вопрос д.м.н., проф., член-корр. РАН Кухарчука Валерия Владимировича. Скажите, пожалуйста, вы смотрели у неё интерлейкин-6 или ещё какие-то цитокины? Я задаю этот вопрос, потому что сейчас появилась целая палитра препаратов на основе моноклональных антител. К ревматологам, кстати, такой же вопрос: они применяют что-нибудь из этого класса? Потому что этой больной стало лучше, когда начали противовоспалительную терапию.
Ответ к.м.н. Кривошеевой Елены Николаевны. Валерий Владимирович, мы не смотрели, но пациентка продолжает наблюдение у ревматолога.
Д.м.н., проф. член-корр. РАН Кухарчук Валерий Владимирович. Нужно вместе с ними посмотреть.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Елена Владимировна, сейчас применяют ингибиторы интерлейкина-6, первого интерлейкина?
Ответ к.м.н. Герасимовой Елены Владимировны. В первую очередь при артериите Такаясу — ингибиторы ФНО-альфа. Это следующий этап после базисной противовоспалительной терапии. На следующей неделе мы ждём результат иммунохимического анализа белков в сыворотке крови. Скорее всего, мы думаем, это будет поликлональная секреция в рамках активности заболевания. Конечно же, требуется усиление терапии. Той терапии, которая была назначена, недостаточно. Следующий этап – это назначение ингибиторов ФНО-альфа. В случае неэффективности следующей группой препаратов идёт ингибитор рецепторов интерлейкина-6. Конечно же, интерлейкин-6 будет высокий у этой пациентки. Уровень мы не определяли, потому что она была однократно на приёме. Это всё пока в планах. Мы планируем госпитализацию пациентки в институт после дообследования и окончания терапии в вашем институте.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Ингибитор первого интерлейкина применяют или нет?
Ответ к.м.н. Герасимовой Елены Владимировны. Мне таких не попадалось. Наверняка есть отдельные случаи, но они описательные. Канакинумаб и из этой группы.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Спасибо большое. Марина Абдулатиповна, пожалуйста.
Вопрос д.м.н., проф. Саидовой Марины Абдулатиповны. Какой был диагноз, когда пациентку брали на такие операции, как протезирование митрального, аортального клапанов? Что это было?
Ответ к.м.н. Кривошеевой Елены Николаевны. Марина Абдулатиповна, у пациентки везде фигурировал инфекционный эндокардит, но при этом многочисленные посевы были всегда отрицательны.
Вопрос д.м.н., проф. Саидовой Марины Абдулатиповны. То есть ничего другого не ставили? Ни ревматического поражения никакого? Инфекционный эндокардит, да?
Ответ к.м.н. Кривошеевой Елены Николаевны. Да.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Элина Евгеньевна, пожалуйста.
Вопрос к.м.н. Власовой Элины Евгеньевны. Мой вопрос, наверное, будет продолжать вопрос Марины Абдулатиповны, и он адресован ревматологам. Елена Владимировна, обращает на себя внимание то, что у этой больной не только аортоартериит и поражение аортального клапана, характерные для этого заболевания, но и поражение митрального и трикуспидального клапанов. Мы ничего не знаем о генезе этих поражений. Когда вы показывали нам список из семи заболеваний, то исключили последние. Это понятно. Скажите, учитываете ли вы поражение этих двух клапанов и, самое главное, эндокарда, так называемого «каркаса сердца»? Ведь вы же помните, что в Бакулевском центре сделали операцию с заменой, с наложением заплаты на эти структуры? Если это не было каким-то ятрогенным повреждением (мы об этом ничего не знаем), то, скорее всего, это было эндокардитным поражением. Какие заболевания из представленного списка могут распространять своё влияние не только на аортальный клапан, но и на митральный и трикуспидальный клапаны и эндокард желудочков и предсердий?
Ответ к.м.н. Герасимовой Елены Владимировны. Спасибо за интересный вопрос. Здесь всё укладывается в сам диагноз — артериит Такаясу. То есть первым идёт поражение аортального клапана, который при высокой воспалительной активности сам даёт многочисленные постоперационные осложнения и возможность присоединения инфекционного эндокардита в том числе. Поэтому мы предполагаем, что, во-первых, клапан был установлен на пораженную ткань, которая дальше деформировалась за счёт воспаления. Я не сосудистый хирург, но я так понимаю, что появляется недостаточность клапана. Из-за недостаточности идёт формирование поражения митрального клапана. Мы связываем поражение трикуспидального клапана с пятым типом аортоартериита, который поражает и лёгочную артерию с формированием недостаточности именно трикуспидального клапана. Это всё объединяется. По поражению клапана из этого перечня, в первую очередь, это антифосфолипидный синдром, который чаще всего поражает и дает вегетации на аортальном клапане. Второе место – это митральный клапан. В данном случае здесь, конечно, об этом не идёт речь. Скорее всего, и вторичного антифосфолипидного синдрома мы не получим, несмотря на то, что здесь даже могут быть и нормальные случаи беременности, но есть случаи с нарушением мозгового кровообращения, которые тоже, скорее всего, в рамках артериита Такаясу, а не проявления антифосфолипидного синдрома. Соответственно, нет изменений клапанов по исследованиям, которые могли бы быть при этом.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Елена Владимировна, какая разница в терапии болезни Такаясу и антифосфолипидного синдрома?
Ответ к.м.н. Герасимовой Елены Владимировны. Варфарин – золотой стандарт при антифосфолипидном синдроме. Несмотря на то, что пероральные антикоагулянты сейчас широко применяются, и пациенты их любят, но всё-таки золотым стандартом остаётся варфарин.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Там нет необходимости применять цитостатики или глюкокортикоиды?
Ответ к.м.н. Герасимовой Елены Владимировны. Глюкокортикоиды — однозначно нет. Цитостатики, гидроксихлорохин мы любим при этом заболевании, если есть высокий уровень и тройная позитивность по антифосфолипидным антителам. Только из этой группы. Конечно, если идёт речь о катастрофическом антифосфолипидном синдроме (это вторая пациентка, которая была направлена из вашего института с признаками катастрофического антифосфолипидного синдрома), тогда рассматриваем такую терапию, вплоть до биологических препаратов.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Две беременности, двое родов у неё.
Ответ к.м.н. Герасимовой Елены Владимировны. Нет, здесь нет признаков. Это я уже про вторую пациентку говорю.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Спасибо. Элла Владимировна, вы хотели вопрос задать.
Вопрос врача-патологоанатома Курилиной Эллы Владимировны. Скажите, пожалуйста, в рамках диагностического поиска на уровне этого диагноза не возникало ли мысли обратиться к патоморфологам? Ведь инвазивная биопсия сосудов артериального типа, артериально-мышечного типа при вашей команде, наверное, могла бы в ранние сроки пролить свет, потому что морфологическая картина специфическая. Не было ли таких идей?
Ответ к.м.н. Герасимовой Елены Владимировны. Идеи, конечно, должны были возникнуть раньше, еще до нашей консультации. Был такой разговор: смотрели ли вообще? Потому что смотрели только, к сожалению, на бактерии (есть данные). Сейчас, я думаю, что нет необходимости уже прибегать к биопсии. По всем данным и по рекомендациям ассоциаций ревматологов диагноз ясен, мы его установили. Еще раз женщину подвергать вмешательству не хочется.
Вопрос врача-патологоанатома Курилиной Эллы Владимировны. Я попрошу пояснений. Если бы к этой инвазивной диагностике прибегли в 2016 году на ранних сроках, диагноз мог быть поставлен еще 10 лет тому назад, и мы не увидели такой развернутой воспалительной лимфоидной инфильтрации, которая, по большому счету, потянула за собой целый «паровоз» событий, мешающих этой даме адекватно и полноценно жить. Это так?
Ответ к.м.н. Герасимовой Елены Владимировны. Когда была первая операция, еще это можно объяснить, но, когда вторая идет — и недостаточность клапана, тогда уже врачи должны были задуматься, что здесь что-то не так.
Врач-патологоанатом Курилина Элла Владимировна. Сергей Анатольевич, вы начали свое повествование с того, что имела место деградация трикуспидального клапана на фоне не предполагающих факторов. Ведь это и есть аутоиммунная реакция. Вот именно тогда, на мой взгляд (я надеюсь, вы меня поддержите), и надо было задуматься: может быть, это все-таки васкулит?
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Клапан имплантировали в 2021 году, а биодеградация наступила 2 года назад. Так что своевременно задумались. Татьяна Валентиновна, прошу.
Д.м.н., проф. Балахонова Татьяна Валентиновна. Если мы идем по пути анализа того, где можно было поставить диагноз васкулит, артериит, мне кажется, здесь знаковый период — 2016 год, когда у больной был инсульт, и самое время было посмотреть сосуды. Всем больным с ишемическим инсультом у нас положено смотреть брахиоцефальные артерии. Та картина, которую показала сегодня Ольга Александровна, она студенческая. В сосудах, в сонных артериях ничего по-другому не выглядит так, кроме аортоартериита. Это классика. Вот как говорила сейчас доктор Герасимова о том, что по височным артериям можно проследить эффект гало, вот точно так же тубулярный стеноз сонных артерий — классический признак неспецифического аортоартериита. Тогда, действительно, 2016 год мог бы быть важным этапом в жизни этой пациентки. Может быть, не было бы этих последовательных операций.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. Татьяна Валентиновна, согласен, что касается сосудистого русла. Что касается клапанов — не аортального клапана, а митрального и, особенно, трикуспидального клапанов — насколько это, с вашей точки зрения или по литературным данным, типично для аортоартериита? Я не очень согласен, извините, с Еленой Владимировной, что поражение трехстворки было следствием легочной гипертензии. Там все-таки была не та степень легочной гипертензии, которая могла бы вызвать такую относительную трикуспидальную недостаточность. Тем более что камеры сердца были не очень увеличены.
Ответ д.м.н., проф. Балахоновой Татьяны Валентиновны. Здесь очень сложная, конечно, история, но системное воспаление, которое присутствует при аортоартериите Такаясу, оно, конечно же, могло приводить к таким деструктивным изменениям. Кардиоцентр обладает колоссальным опытом, одним из самых больших в этой стране. Новелла Михайловна (Чихладзе. – Примеч. ред.) — человек, который обладает этим клиническим опытом. Может быть, она, опираясь на свой опыт, расскажет о том, насколько часто встречаются клапанные поражения. Но, насколько я помню, за 40 лет у нас такой клапанной патологии у больных с аортоартериитом не было.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Этот диссонанс и бросается в глаза. Спасибо, Татьяна Валентиновна. Коллеги, время выступлений. Елизавета Павловна, пожалуйста, к микрофону.
Д.м.н., проф. Панченко Елизавета Павловна. Я хотела сказать буквально несколько слов. Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые коллеги, я хотела обратить внимание практических врачей, которых здесь большинство, на очень простые вещи. Эта маленькая женщина, которой сейчас 64 года, болеет в течение десяти лет. Во всяком случае все это время у нее была какая-то острофазность. Это выражалось в повышении СОЭ, в повышении уровня фибриногена, у нее все время был повышен С-реактивный белок, у нее отсутствовал пульс на лучевых артериях и была совершенно отчетливая разница в давлении на левой и правой руке (на правой руке мы практически не могли определить артериальное давление). У нее были многочисленные операции на клапанах и аневризматические расширения аорты. Нам очень помогла в плане диагностики доктор Погорелова. Она впервые увидела, что не всё в порядке с сонными артериями, а эти стенозы не очень-то похожи на атеросклеротические изменения. Это все заставило нас впервые задуматься. Удивительно, что чрезвычайно важно учесть эти практические признаки, которые были у этой больной. По современной классификации ревматологов Соединенных Штатов Америки считается, что нужно набрать 5 баллов для постановки диагноза артериита Такаясу. У нашей больной набирается по меньшей мере 11 баллов. Это чрезвычайно много. Хотела бы сказать, что во всем лечении этого заболевания чрезвычайно важен командный подход. Спасли ее хирурги. Спас ее Имаев, безусловно, установив ей клапан в клапан, и у нее исчезла трикуспидальная недостаточность. Плюс в этой команде должен быть ревматолог, обязательно должен быть кардиолог, и специалист по визуализации крупных артерий. Спасибо!
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Спасибо, Елизавета Павловна. Я сейчас подумал в отношении своей избыточной категоричности в плане оценки ситуации с трехстворкой. Ведь у нее же было выраженное поражение аортального и митрального клапанов, и в те времена могла быть и относительная трикуспидальная значимая недостаточность, которая послужила причиной имплантации биологического клапана в 2021 году, а потом уже он стал мишенью иммунокомплексного процесса. Коллеги, пожалуйста, кто еще желает высказаться? Юрий Александрович, будете высказываться? Это ведь тема — ангиология.
Д.м.н., проф. Карпов Юрий Александрович. Надо сказать, когда все по полочкам разложили и достаточно громко сказали, что обратился человек, у которого нет пульса на руке и разница в давлении 20 мм, конечно, многие вещи становятся более понятными. Может быть, последнее время такие больные нам не попадались, но в целом, мне кажется, что истина установлена. Главное, что я хотел бы подчеркнуть (мы и с Валерием Владимировичем все время обменивались мнениями по поводу представления этого случая), ее спасли и с точки зрения восстановления нормальной работы клапанов сердца, и с точки зрения устранения воспалительного компонента. Совершенно справедливо, когда вы спросили больную, как она себя чувствует, она ответила, что ей стало лучше. Я думаю, что это главный результат. Я надеюсь, что дальнейшее наблюдение за этой пациенткой во многом изменит вектор ее жизни.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Спасибо большое, Юрий Александрович. Коллеги, есть ли еще желающие? Новелла Михайловна, прошу вас.
Д.м.н., проф. Чихладзе Новелла Михайловна. Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич, на сегодняшний день остается неясным, больная все же страдает артериальной гипертонией или нет? Судя по анамнезу, конечно, вопрос о том, что больная страдает аортоартериитом, наверное, не вызывал бы сомнений, если бы внимательнее можно было подойти к анализу клинического течения заболевания. Все же, если факт артериальной гипертонии подтвердится по данным измерения артериального давления на нижних конечностях, то, естественно, в план ведения больной должны быть включены антигипертензивные препараты. Что касается обширного клапанного поражения, то больная не лечена. Длительный воспалительный процесс на протяжении стольких лет, конечно, мог привести к такому чрезвычайно тяжелому течению заболевания.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Спасибо, Новелла Михайловна. Прошу вас, Ольга Аркадьевна.
Д.м.н. Фомичева Ольга Аркадьевна. Уважаемый Сергей Анатольевич, я бы хотела сказать, что такие неразобранные или упущенные на самом начальном этапе диагностики пациенты, имеются. Они, может быть, немногочисленны, но имеются. Это не единственный случай. У нас был такой больной (также у Елизаветы Павловны) с ревматоидным артритом, у которого были коронарные вмешательства в течение четырех лет шесть раз. При этом каждая последующая операция определяла наличие рецидива стенокардии. С этой же проблемой пациент из Сургута поступил к нам. Этот пациент уже перенес коронарное шунтирование. При нашей коронарографии данных за необходимость инвазивных вмешательств в настоящий момент не было. Что мы увидели? Что это ревматоидный артрит высоченной активности и, соответственно, все сосудистые изменения по типу васкулита. Мы пациента передали Елене Владимировне. Этот пациент сейчас получает блокаторы интерлейкина-6 (тоцилизумаб), и все коронарные проблемы у него регрессировали. Это пример того, что эти пациенты, может быть, не такие частые, но информированность медицинских сообществ, о чем говорят все рекомендации, остается важной. Наш клинический разбор тому пример.
Академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Спасибо. Я хотел бы сейчас не сам диагноз обсуждать, потому что, надеюсь, он доказан окончательно, и обсуждение тоже состоялось. Хотел бы обратить внимание на такие два момента, которые пока не стали предметом обсуждения. Частые болезни бывают часто, а редкие болезни бывают редко. Вроде бы смешная, наивная по своему содержанию фраза, но за ней, действительно, стоит гигантский накопленный опыт, в том числе нашего профессионального сообщества. Я веду разговор к тому, что в кардиоцентре не так редко, как минимум один-два раза в год, возникают ситуации, которые мы оцениваем как сложные диагностические, а иногда как казуистические. Это связано с какими-то аномальными изменениями со стороны сосудов. Нередко это бывают аномальные коронарные артерии. Аномальные с точки зрения их необыкновенно большого диаметра при совершенно нормальном функционировании в плане обеспечения коронарного кровотока. Иногда это бывают пациенты, у которых нарушен коронарный кровоток. Совсем недавно у нас подряд прошли два случая, тоже в течение последних двух лет. Последний из них очень запомнился. Это была женщина примерно 55 лет, в прошлом балерина, у которой было галопирующее течение тотального поражения артериального сосудистого русла, которое менялось, расширялось буквально во всех бассейнах с очень большой скоростью. Мы наблюдали ее в рамках достаточно небольшого интервала времени. Жива она сейчас, Юрий Александрович?
Д.м.н. проф. Карпов Юрий Александрович. Жива, но, если вы помните, в итоге там оказалось, что тромб, который образовался, он на кончике поставленного ей катетера, по-моему, через югулярные вены (могу ошибиться). Ситуация там была и с реанимацией, и с клинической смертью, и со сложностями огромными. Мы уже хотели оперировать и все прочее, но в итоге проявили выдержку и на длительной антикоагулянтной терапии этот тромб растворили.
Вопрос академика РАН, д.м.н., проф. Бойцова Сергея Анатольевича. С тромбом разобрались, а с сосудами?
Ответ д.м.н. проф. Карпова Юрия Александровича. С сосудами разберемся. Насколько я помню, мы точно за ней продолжаем наблюдение. Может быть, мы еще вернемся с ней в перспективе.
Генеральный директор ФГБУ “НМИЦ Кардиологии” Минздрава России, академик РАН, д.м.н., проф. Бойцов Сергей Анатольевич. Я веду разговор к тому, что эти случаи, а их можно поднять в рамках нашей базы данных «Интерин», систематизировать, может быть, и не удастся, но нужно собирать. Ту пациентку смотрела профессор Решетняк, и диагноз был не очень определенный. Нам как кардиоцентру надо заняться вопросами, связанными с патологией различных бассейнов артериального и вообще сосудистого русла, в плане накопления случаев, а потом, может быть, какого-то осмысления и систематизации. Кровь этой пациентки, конечно, с ее согласия, должна быть обязательно предметом нашего биобанкирования. Может быть, поищем какие-то специальные панели для подобных ситуаций в плане дифференциального диагноза, или можно просто провести в рамках нашего проекта полный геномный сиквенс. Правда, с ним тоже разбираться потом, наверное, будет очень сложно, тем не менее это надо обсудить. Второе, что я хотел бы сказать − мы сейчас должны думать о том, как взять болезнь под контроль. Это очевидно. У нас такое впечатление, что комбинация цитостатиков с глюкокортикоидами работает, тем более Елена Владимировна говорит, что на горизонте может быть и анти-TNF-терапия. Мы сейчас должны параллельно думать о том, что определяет прогноз жизни этой пациентки. Вы помните ее головной мозг на МРТ? Впечатляющая картина. Это был результат, возможно, аневризматического поражения сосудистого русла, но, может быть, это был результат и тромбоэмболического поражения. Мы сейчас толком этого не можем сказать. Надо посоветоваться еще раз со специалистами по МРТ, может быть, даже с неврологами, потому что это важно. У нее сильно «гуляет» МНО — до восьми. В нашей практике такое бывает. Бывают генетические нарушения в комбинации с какими-то генетическими предпосылками в плане цитохрома-С. Правда, здесь уже провели исследование, и там никаких отклонений не было. Необходим контроль параметров свёртываемости крови пациентки, у которой протезировано три клапана. Правда, это биологические клапаны, а один − механический. Помните, мы наблюдали, что в рамках короткого интервала времени было нарушение функции клапана? Максим Игоревич нам это очень убедительно показал. В данном случае тромбы были небольшие, но, в конце концов, всё может произойти, измениться, и это может быть действительно причиной следующих драматических осложнений. Что ещё может быть? Пока не очень драматично нарушена функция почек, но это тоже может очень быстро стать предметом галопирующего течения, опять-таки, через поражение сосудистого русла. Это тоже мы должны контролировать. Что касается работы клапанного аппарата, будем надеяться, что с трехстворкой более или менее надёжная ситуация. Про митральный клапан я уже сказал. Относительно аллографта, он также должен быть предметом, безусловно, нашего особого внимания, поскольку это генетически другая ткань, и здесь могут быть иммунные конфликты. Кстати, важен тот факт, что у неё в детстве был, скорее всего, артрит (вряд ли это были какие-то другие причины), но был ли это ревматизм, трудно сказать. Хотя 50 лет тому назад ревматизм ещё существовал в нашей стране, скорее всего, это мог быть какой-нибудь неспецифический артрит на фоне, возможно, той же самой стрептококковой инфекции, если у неё были ангины. Трудно сказать. Тем не менее некая предрасположенность к системным иммунным реакциям у нашей пациентки, безусловно, есть. Собственно говоря, это, наверное, всё, что можно пока поставить на первый план как предмет особого внимания в вопросе влияния на прогноз жизни. Сейчас мы занимаемся главным образом вопросами торможения поражения сосудистого русла, магистральных артерий. У нас основные надежды именно по этому направлению. Давайте постараемся этот случай не потерять из виду. Я не сомневаюсь, что отдел клинических проблем атеротромбоза возьмёт его под контроль. Необязательно это представлять в качестве отдельного предмета для клинического разбора, но по истечении какого-то времени (на усмотрение самих коллег) давайте на одном из клинических разборов заслушаем хотя бы 10-минутную информацию о том, как идут дела. Теперь я хочу поблагодарить всех участников: и диагностического процесса, и лечебного процесса с точки зрения взятия под контроль течения основного заболевания и его осложнений — кардиохирургического процесса. Я ни в коем случае не хотел бы сейчас делать какие-то заключения по поводу неправильных трактовок клинической ситуации у наших предшественников, которые занимались диагностикой и лечением тех ситуаций. Они опирались, может быть, совсем на другую клиническую картину и имели совсем другой диапазон симптоматики. Поэтому будем считать, что мы появились вовремя — в тот момент, когда уже действительно сформировалась полная клиническая картина, с которой, в общем, вроде бы пока мы разобрались. Всех благодарю за работу и за участие!